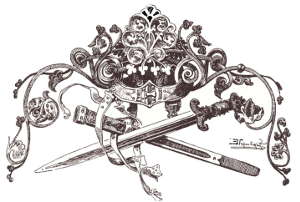
Жил-был славный князь Владимир Красное Солнышко в стольном городе Киеве. И заводил он в гриднице своей хорош-почестен стол, созывал, скликал сильно могучих витязей, богатырей и поленниц удалых. Собиралось гостей видимо-невидимо, и за яствами сахарными, за зеленым вином стали гости друг перед дружкой хвастаться, — кто силою да удалью, кто несчетной казной, кто лихим конем, кто женой молодой…
И видит князь, что сидит за столом бранным витязь Данила, — не ест, не пьет, ничем не хвастает. Повесил он буйную голову пониже плеч, утупил глаза в кипарисен пол, а где о ту пору дума его многодумная, — и Господь его ведает…
И не больно это князю Владимиру показалося. Он вставал на ноги резвые, стал похаживать по горенке, стал руками размахивать, золотыми кудрями потряхивать; омрачнел лицом и топнул о кипарисный пол:
— Ай же ты, Данилушка-богатырь!.. Ты почто на пиру моём весёлом припечалился, утупил ясные очи в кипарисен пол; ты почто зелена вина не кушаешь, моей белой лебеди не рушаешь?.. Ин же горе какое кручинное к сердцу подошло, — и то горе ты мне своё поведай. О ту пору, может статься, я твою беду поразмыкаю…
Поднялся Данило-богатырь на ноги резвые, до сырой земли ему кланялся и сказал ему:
— Не гневись, государь, на меня, не держи досады на меня, не давай надзолушки сердцу моему… А как слышал я, что гости промежду собой поговаривают, — кто ни чем, а на людях хвастает, — и осилила меня дума тяжелая!.. Ещё как же мне горе не горевать? Ещё как же мне буйной головушки не вешать? Чем же мне, государь, хвастать?.. Ни двора у меня, ни кола у меня, ни казны у меня богатой, — нет ничего… А поди, государь, сила-то да удаль во мне богатырская, и с другими-то сила-удаль равным-равнешенька… Я служил тебе пятьдесят годов, я убил тебе пятьдесят царей, а что мелочи извлечь, — тому и счета нет… А чем же ты за то меня пожаловал?.. Ин же мне за то Господь пожалует… А как стало мне теперь да девяносто лет, — ничего мне от тебя, государь, не надобно. Об одной тебя милости просить хочу: отпусти меня, государь, в монастырь пречестной, ты спусти меня в кельи подземельные, чтобы душу грешную для Бога спасти, — замолить грехи неисходные!..
Пуще прежнего отемнел лицом князь Владимир, покачал головой и говорит ему:
— Ты прости-ка мне, Данилушко Игнатьевич, что за службу твою верную никогда я тебя милостью не жаловал; что и нынче тебе милости оказать не могу… А нельзя тебе, Данилушко, в монастырь идти. Некому будет за святой Киев заступу держать…
— Отпусти, государь, — сказал Данило, — а будет тебе заступа великая – белокаменна стена, и та заступа – мой сынок, дитятко роженое, Иван Данилович… Я давал ему наказы крепкие, и не выдаст он тебя татарам довеку…
И ушел Данило-богатырь в келью монастырскую – Бога молить за великие свои грехи…
Вот и прослышали про то цари неверные, будто все богатыри в монастыри посхимились. Собрали они рати могучие, подвалили под Киев, — и посылает неверный царь сказать Владимиру, чтобы выслал он против них своего поединщика.
Поднялся князь Владимир на вышку, глянул на все стороны и видит, что нагнано силы татарской видимо-невидимо, — будто облако ходячее.
Созывал Владимир почетный стол витязей, богатырей сильномогучих, говорил им такие слова:
— Уж вы, гой еси, князья, бояре, поленницы удалые!.. Кто бы съездил из вас в чисто поле, с поединщиком поганым силой переведался?..
Ни единый из гостей не выискался, — больший хоронится за среднего, средний за меньшего, а от меньшого и ответа нет!..
И не раз, не два, а три раза окликал Владимир, и никто ему не откликнулся. И выходит о ту пору только из-за белодобового стола дитятко, Иван Данилович, дитятко роженое Данилы Игнатьевича. А всего тому дитятке двенадцать лет, — хоть и ростом, и дородностью в отца пошел.
Поклонился добрый молодец князю Владимиру до земли и говорит:
— Отпусти меня, государь, в чисто поле с поединщиком силой-удалью переведаться, посчитать их силы-рати неверные!..
Усмехнулся князь Владимир и говорит ему:
— И хвастлив же ты, детинушка, не по разуму… Ты и ростом-то малешенек, да и разумом, как вижу, глупешенек!.. Тебе от роду двенадцать лет, уж куда ж тебе с неверными биться, ратиться, — всё равно снесут тебе голову буйную, порассеют кости по всему полю чистому…
Зло взяло дитятку, Ивана Данилыча, распахнул он дверь, вышел в сени, да как хватит дверью за собой, — разлеталась дверь белодубовая на щепочки, раскололись надвое ободверины, вся палата зашаталася, золотые маковки с теремов пообсыпались…
Пошел Иван домой, слова матери не молвил, — оседлал коня доброго и поехал в поле чистое…
И взяло на пути раздумье дитятку.
— Эх, неладно дело выходит, — не съездил я проведать родного батюшку, не взял себе благословленья родительского нерушимого!..
Повернул коня Иван, поскакал на монастырский двор. Скачет конь, под ним земля дрожит.
Услыхал Данила Игнатьевич, в келье сидючи, и говорит:
— Ох, не мой ли Ванюшка ко мне жалует?..
А Иван в келейку и входит.
— Будь здоров, батюшка!..
И спрашивает сына Данило-богатырь:
— Ты скажи, сынок, куда путь держишь?
— Еду я, батюшка, в поле чистое, с неверной силой переведаться, посчитать, велика ли сила-рать басурманская?..
Покачал на то головой старо-старчище Данилище.
— Ох ты, дитятко моё неразумное!.. Не твоё это дело, не твой черёд. Кабы я да дома был, — не пустил бы я тебя на силу татарскую, потому что заповедь положена тяжелая на одоление, а тебе, Иван, всего двенадцать лет, — потеряешь ты, Иван, буйную голову!..
Омрачнел Иван Данилович с лица, насупил брови соболиные, — зачем и ехал забыл, — выходил на монастырский двор, поворачивал добра коня в поле чистое…
И окликнул сына старо-старчище Данилище во всю голову:
— Стой, сыночек, удержи коня!.. Дам тебе я благословенье родительское. А как выедешь ты в поле чистое да взъедешь на гору высокую, и в те поры закричи ты во всю голову, — клич к себе Бурушку косматенького. И скажи ему, сынок, что как мне он служил, — так пускай послужит и сыну моему, Иванушке!.. И прибежит Бурушка косматенький, станет на горе, — а ты отмерь от Бурушки на восход солнца пять локтей, и тут землю рой, и выроешь из-под земли и сбрую, и доспеху богатырскую.
Выезжал Иван в поле чистое, поднялся на гору высоку и кричал во всю голову богатырским окриком:
— Уж ты, гой еси, Бурушка косматенький!.. Как служил ты верой-правдой моему родителю, — послужи теперь и сыну его, Ивану Данилычу!..
И только молвил это, — задрожала земля, зашумели бури, прибежал на гору Бурушка косматенький, становился перед дитяткой-богатырем, как лист перед травой.
Отмерил Иван от коня пять локтей на восход солнца, стал копать мать сыру землю, — и нашел и сбрую, и доспеху богатырскую. Оседлал он Бурушку-Каурушку, обкольчужился, облатился, — выезжает в поле чистое… То не ветер свищет, — свищет сабля вострая; то не гром гремит, — гремит его палица булатная…
А в то время старо-старчище Данилище выходил на луг Богу молиться.
— Ты прими, Пречистый Спас, Пречистая Богородица, моленье моё пустынное скоро-наскоро, — подсоби сыну моему Иванушке, благослови его на дело доброе, защитить Киев град от силы татарской!..
Той порой дитятко-Иванушка, как ехал на Бурушке, — слышит, будто Бурушка вещает человечьим голосом:
— Уж ты слушай-ка, послушай меня, дитятко-Иванятко!.. Наезжай ты на силу поганую с краю, бей её с обеих сторон. Не езди только, не бей в середке, потому там вырыты три ямы глубокие, и в тех ямах копья острые натыканы. А погонишь ты меня на те ямы глубокие, — и я первую яму легко перескочу, и другую яму тоже перескочу; а уж третьей ямы одолеть нельзя, и в той яме нас погибель ждет!..
Распалился Иван на такие слова, брал он плеточку шелковую, бил коня по крутым бедрам, по крутым бедрам – по тучным бокам, сам ему в ответ приговаривал:
— Ах, ты, волчья сыть, травяной мешок!.. Уж и что же ты за конь, коли мне и послужить не можешь!.. Али я тебя спрашивать стану!..
И погнал Иван коня в середину рати неверной, — и первую яму конь перескочил, и другую яму одолел, а через третью яму скакнул, да не перескочил, угодил задними ногами в яму глубокую, чуть, было, Ивана в яму не свалил на копья острые…
Тут татары хватали дитятку за руки белые, оплели ему руки шелковыми петлями, заковали в железа его ноги резвые и повели к царищу Усланищу.
Одели дитятку-Иванятку в одежду татарскую, принуждают его веру сменить, царищу Усланищу челом ударить. А Иван стоит и Богу молится:
— Ты не дай меня поганому на поруганье, — я служить хочу за веру крещеную, я стоять хочу за церкви Божии. И Ты супротивным мне не стань, — а с поганой силой я ужо и сам справлюсь!..
И чует дитятко, будто силы в нём втрое прибыло, — порасправил плечи Иванятка, поразвел руками, — и порвал петли шелковые, посшибал он сног железа тяжелые, ухватил оглоблю и давай помахивать; впереди себя махнет, — пробьет улицу; позади себя махнет, — пробьет переулочек. Засвистал Иванятка во всю голову, — и примчал к нему Бурушка-Каурушка, со всею сбруей богатырскою. Вскочил Иван на доброго коня, поскакал силу поганую считать да пересчитывать с края на край, — всю силу под собой уложил…
Повернул коня Иван к палатке ханской, где Усланище лежал, полеживал. Одним махом буйну голову царю отсек и воткнул на копье длинномерное. Наткнул – и сам на голову дивуется…
— Это что ж за голова: смотреть, — так тоска берет: у царища ушищи – что твои блюдища; а глазища у него – что чаши пива пьяного; а носище – словно палица булатная!..
Той порой старо-старчище Данилище не сдержал сердца своего, — взял клюку железную во сорок пуд и поехал в поле чистое. А и слышит он, что нет в живых его дитятки-Иванятки, что убили его татары поганые.
И увидел он, что едет на него татарин, на копье чью-то голову везет, — и заплакал старчище Данилище:
— Ой же вы, поганые!.. Вы убили сына моего, Ивана Данилыча!.. Ты держи ко мне, пододвинься сюда ко мне, старому, — дай тебя с конем я рассеку клюкою надвое!..
И занес он над Иваняткой клюшку железную во сорок пуд, — чуть Иванятка в сторону от клюшки увернулся… Закричал Иван отцу во всю голову:
— Стой, святой отец! Удержи коня, подними колпак да глянь на меня. Видно, батюшка, молитвы твои до Господа доходчивы!..
Поглядел Данило Игнатьевич и признал и Бурушку косматого, и дитятку-Иванятку…
И вернулся Данило Игнатьевич в монастырь, а дитятко-Иванятко к Киеву Бурушку погнал, да воротами не ехал, — а махнул через стену городовую, через башню наугольную; приезжает на княжий двор…
Вышел князь Владимир с княгиней Евпраксией на крыльцо, — скинул Иван Данилыч с копья долгомерного голову царя Усланища, — и глядеть-то князю было на ту голову тошно…
И на радостях заводил он хорош почестен пир, и на том пиру мы ели, наедалися; пили вдосталь, упивалися; выхваляли дитятку-Иванятку.
Нечем было хвастаться Даниле Игнатьичу – ни широким двором, ни казной золотой; ему впору было сыном дитяткой-Иваняткой похвастать, — ещё дал Господь старчищу Данилищу сокровище великое!..